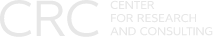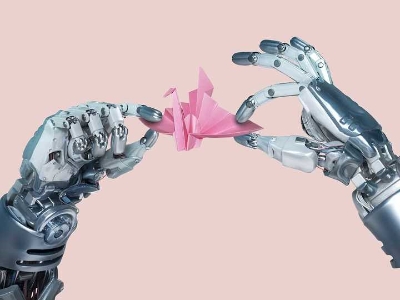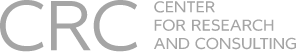Новости
Легпром неладно скроен
16 июля 2015

Первая пятилетка для казахстанской легкой промышленности получилась неоднозначной. С одной стороны, завершился затянувшийся старт текстильного кластера на юге Казахстана, в республике открылись 10 новых объектов, росли объемы производства. С другой — по результатам первой пятилетки легкая промышленность потеряла статус приоритетной и не попала в программу второй пятилетки, после чего оптимизма в бизнесе поубавилось.
Это либо недомыслие разработчиков первой программы ФИИР, которые настаивали в документе, что в легпроме заложен потенциал несырьевого экспорта. Или ошибка авторов второй пятилетки, которые, не впечатлившись результатами, решили больше не концентрировать государственные усилия на легкой промышленности.
Где тонко
Легпром за пять лет показал, пожалуй, худшие результаты в индустриализации республики. Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) — один из главных показателей индустриализации — легкой промышленности в 2013 году составила 102,1%. Это меньше предыдущего на три пункта, несмотря на то что тот год стал самым успешным в пятилетке. В 2014 году ВДС скорее продолжила свой снижающийся тренд.
Если же сравнивать ВДС разных отраслей, то рисуется следующая картина. Во-первых, ни у одной отрасли не было столь минимальных плановых показателей. Если перед легпромом стояла задача достичь ВДС 9%, то перед химпромом — 70%, строительной индустрией — 66% и машиностроением — 70%. Во-вторых, рассматриваемые отрасли в первые годы сильно сжались, но быстро наверстали упущенное. Легпром же в первый год не падал значительно, как остальные, но при этом не смог переломить и незначительный отрицательный тренд.
Следующий индикатор индустриализации — увеличение объема экспорта готовой продукции. Согласно плану показатель должен был вырасти в 2,5 раза в 2014 году по отношению к 2008 году. В 2013 году с экспортом на сумму 97,4 млн долларов планка была почти достигнута. Однако 2014 год внес свои коррективы: вывоз готовой продукции резко сократился до 53 млн долларов (несмотря на девальвацию тенге и при аналогичных показателях производства). Кстати, динамика производства и объемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью странным образом практически не коррелируются: резкий рост экспорта в 2011 году на фоне стабильного производства вызывает вопросы.
Третий индикатор — производительность труда, которая согласно плану должна была вырасти в 1,5 раза. Это единственный показатель, который почти выполнили: в 2013 году производительность труда была на уровне 14,5 тыс. долларов на человека (выше показателя 2008 года в 1,59 раза); в 2014 году — 13,2 тыс. долларов на человека (выше показателя 2008 года в 1,45 раза). Однако не стоит забывать, что производительность росла за счет сокращения рабочих мест.
Последний индикатор — доля отечественной продукции на внутреннем рынке.
В ГПФИИР было прописано: местное производство к 2014 году должно покрыть 30% потребностей казахстанцев в продукции легпрома. «Отечественная текстильная и швейная промышленность обеспечивают лишь 8% потребности внутреннего рынка республики, обувь — около 1% и свыше 90% продукции легкой промышленности приходится на долю импорта», — отмечал в своем докладе председатель комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Сейтсултан Аимбетов.
С разных позиций
Нельзя утверждать, что усилия затрачены вхолостую. По данным Ассоциации предприятий легкой промышленности РК, в 2014 году реализовано десять региональных проектов в рамках Карты индустриализации на сумму более 6,4 млрд тенге, создано 1,1 тыс. рабочих мест. В период с 2010 по 2013 год введены в эксплуатацию 14 предприятий, которые дали 2,78 тыс. рабочих мест. Созданные во время индустриализации предприятия в прошлом году произвели дополнительной продукции на сумму 7,5 млрд тенге.
Помимо количественных в отрасли параллельно шли и качественные изменения. Была освоена ранее не производимая в Казахстане продукция — синтетические ковры и ковровые изделия («Бал текстиль») и производство строительных перчаток («Территория комфорта»). Плюс стартовала сборка швейного оборудования (производственная инновационная компания «Ютария LTD»). Запущены после длительного простоя в конце прошлого года текстильные фабрики «Меланж» и «Ютекс» при партнерстве с квазигосударственным Capitallogistics, которое обязалось обеспечивать их сырьем.
Министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев, выступая перед народными избранниками во время правительственного часа в мажилисе, посвященного проблемам легпрома, отметил, что в 2014 году доля легкой промышленности в экономике составила 0,34% (в 2008 году — 0,2%). Доля легпрома в структуре обработки в 2014 году составила 1,11% (в 2008 году — 0,82%). С одной стороны, вполне положительная картина. С другой — если расширить временной горизонт — радужные краски блекнут. «Затянувшийся кризис, которым можно охарактеризовать ситуацию в легкой промышленности — это падение объемов, что сопровождается сокращением численности квалифицированных рабочих в отраслях легкой промышленности. Так, только за 2000–2014 годы доля легкой промышленности в структуре промышленности республики снизилась с 2,3 до 0,3 процента. Численность промышленно-производственного персонала только за этот период сократилась с 25,6 до 13 тысяч человек. Число активно работающих предприятий не превышает 40 процентов. Это приводит к снижению поступлений в бюджет страны. Низкий процент использования производственных мощностей действующих предприятий в Казахстане», — говорит руководитель Ассоциации предприятий легкой промышленности РК Любовь Худова.
Пища для размышлений: в советские годы казахстанский легпром формировал до 25% бюджета республики, доля в обработке составляла 21%. На двух флагманах трудилось больше людей, чем сейчас во всей отрасли: Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат обеспечивал работой более 10 тыс. людей, Костанайский камвольно-суконный комбинат — до 9 тыс. Поэтому, несмотря на постоянные меры господдержки (попытки замещения импорта в легпроме в 2001–2003 годах, создание текстильного кластера, отраслевая программа на 2010–2014 годы), отечественные предприятия, как правило, не демонстрируют опережающего роста. Госпрограммы, если быть точным, задержали стремительное падение отрасли. Вероятно, что именно из-за отсутствия потенциала роста легкую промышленность исключили из списка приоритетных отраслей во второй пятилетке. Здесь нужно понимать, что во вторую программу индустриализации отрасли отбирались по более прагматичным параметрам: занятости и влиянию на экономику, уровню добавленной стоимости и инновационному потенциалу. В начале первой пятилетки в программе отраслевого развития акцент делался на социальной части: отрасль необходимо было развивать, чтобы обеспечить минимальную экономическую безопасность страны и дать работу женским рукам. Учитывая прошлый опыт, в правительстве решили не делать акцент на всей отрасли, а ограничиться популяризацией перспективных швейных компаний через концепцию QazBrands (см. «В поисках своего бренда»).
Stan Shih & McKinsey
«Анализ имеющихся материалов свидетельствует, что на протяжении ряда лет наблюдается устойчивая тенденция роста реализуемой на потребительском рынке контрабандной и фальсифицированной продукции, — отмечают в Ассоциации легпрома. — Удельный вес последних превышает 85–95 процентов, что является главным препятствием развития легкой промышленности в Казахстане».
Причина в том, что одежда, обувь, ткани завозятся в основном беспошлинно по весу и исчисляются тоннами и кубами. В международной практике не предусмотрено каких-либо исключительных положений для физических лиц, малого, среднего или крупного бизнеса в части таможенного регулирования. «Согласно исследованию Всемирного банка ежегодно теневой оборот товаров легкой промышленности составляет не менее 2 миллиардов долларов», — говорит г-жа Худова.
Экс-глава Казахстанского института развития индустрии, ныне независимый консультант Ануар Буранбаев предложил сменить акценты и подумать над тем, чего не хватает Казахстану, чтобы успешно развивать легпром. По его мнению, для этого необходимо разобрать структуру отрасли и потенциалы республики в ней. Для понимания возможностей допустимо применить базовые концепты: smile curve, ромб конкурентоспособности и классификацию отраслей обрабатывающей промышленности по McKinsey.
«Первое, если посмотреть на кривую создания стоимости в обрабатывающих секторах, то увидим, что основная стоимость создается на начале и конце производственно-логистической цепи.
Оценим, где реально представлена легкая промышленность Казахстана во всех ее секторах. Это текстиль, пошив одежды и обработка кожи и производство изделий из нее, — говорит г-н Буранбаев. — То есть из всей цепи в Казахстане большая часть создания стоимости приходится на низкомаржинальный сегмент собственно производства».
Второе — это положение легкой промышленности с точки зрения классификации обрабатывающих секторов по McKinsey. По словам Ануара Буранбаева, легпром относится к трудозатратным секторам, которые формируют только 7% от добавленной стоимости, создаваемой в обрабатывающей промышленности. НИОКР в этих секторах, как правило, ниже среднего, но зато высоки затраты на труд, низка капитальная интенсивность, а затраты на энергию выше среднего. Кроме того, продукция секторов отличается высокой торгуемостью и доля добавленной стоимости выше среднего. «Давайте зафиксируем ключевые факторы успеха по этой методике: доступная и дешевая рабочая сила, дешевая энергия и доступ к рынкам», — говорит собеседник.
По заветам Портера
«Теперь оценим, насколько Казахстан конкурентен в легкой промышленности, с помощью ромба Портера», — продолжает г-н Буранбаев. Для чего он предлагает провести поверхностный разбор детерминантов ромба конкурентоспособности.
Первое — параметры факторов. К ним относятся человеческие ресурсы. В 2013 году списочная численность работников в легпроме составила 12,8 тыс. человек. «С учетом трудозатратности отрасли — это величина, близкая к ничтожной по сравнению даже с некоторыми странами Европы и США», — подчеркивает г-н Буранбаев.
Средняя заработная плата в нашем легпроме на конец 2013 года составляла порядка 50 тыс. тенге. Это более чем в 2,5 раза ниже средней заработной платы по стране — свидетельство низкой привлекательности. «Но даже при таком раскладе казахстанская зарплата в 1,3 раза выше, чем в Китае, в 1,5 — чем в Индонезии, в 2,5 раза — чем во Вьетнаме, в 3,3 раза — чем в Камбодже, в 4,5 раза — чем в Бангладеш, и в 5 раз, чем в Мьянме. При этом производительность труда ниже, чем в этих странах»,— уточняет собеседник. Другие параметры факторов также оставляют желать лучшего. Стоимость электроэнергии в стране конкурентоспособна, но ее цена в южных регионах, где сосредоточены предприятия легпрома, выше, чем в других. Доступность инвестиций в Казахстане низкая: для финансового капитала легкая промышленность из-за более низких маржинальных доходов и высоких рисков менее привлекательна. По словам г-на Буранбаева, для иностранных инвестиций отрасль непривлекательна из-за отсутствия дешевой, нетребовательной рабочей силы и избытка первичного сырья. Научно-информационный потенциал во многом был утерян в 90‑е годы после развала Союза и крупных предприятий легкой промышленности.
Считается, что в Казахстане производится все необходимое сырье для производства в легкой промышленности. Поэтому стране по силам построить вертикально интегрированную цепь создания стоимости для всего легпрома. Этот тезис проходит красной линией во всех программных документах: производя SWOT-анализ отрасли, авторы этих документов не забывают сказать, что у страны достаточно сырьевых ресурсов. «Это опасное заблуждение, — парирует г-н Буранбаев. — Да, Казахстан производит определенные объемы хлопка, шерсти, кож. Но на этой базе невозможно обеспечить весь спектр необходимых для швейного производства тканей, ниток, фурнитуры и других полуфабрикатов. Качество казахстанского хлопка не позволяет производить пряжу высоких номеров, те же проблемы и с шерстью. Казахстан не является страной, обладающей избыточным предложением сырья».
Как оказалось, Казахстан экспортировал в 2012 году 0,46% от глобального рынка хлопковолокна, заняв 25‑е место, и 0,11% от мирового рынка шерсти, заняв по этой позиции лишь 36‑е место. Страна не обладает существенными запасами сырья, которые стали бы сильными факторами для развития легпрома с точки зрения потенциальных инвесторов. С этого угла у страны только один плюс — географическая близость с Китаем и Узбекистаном, где можно закупать готовые ткани, пряжу, фурнитуру и т.д.
Второе — параметры спроса. Умение управлять спросом — ключевой фактор для развития легпрома. Однако внутренний рынок Казахстана слишком мал, чтобы быть привлекательным сам по себе для инвесторов. Небольшая численность и низкая плотность населения не дают достичь эффекта масштаба при производстве крупных серий и делают слишком дорогой торгово-распределительную сеть. Вступление в ТС и ЕАЭС несколько улучшило рыночные перспективы Казахстана с точки зрения тарифной доступности рынка России, но ключевые проблемы, связанные с удаленностью от основных рынков, остались.
«Стратегии крупных игроков, направленные на реализацию концепции fast fashion, сильно изменили конкурентный ландшафт. Теперь близость к потребителям ключевых рынков становится очень важна. Это дает некоторые возможности для Казахстана в отношении российского рынка, но проблема трудодефицитности регионов, граничащих с Россией, уменьшает эти возможности», — подмечает Ануар Буранбаев.
Третья часть ромба конкурентоспособности — стратегия и конкуренция. Взгляд с этого угла показывает, что серьезных игроков хотя бы регионального масштаба в Казахстане не существует. По мнению экс-главы КИРИ, структура местных компаний не отличается высокой сложностью, а уровень внутриотраслевой конкуренции некритичен. Большинство компаний вынуждено придерживаться стратегии концентрации на дифференциации или издержках. Основной клиент легкой промышленности Казахстана, ее швейного и обувного сектора, утверждает эксперт, — это государство, квазигосударственный сектор и промышленные предприятия. Основной продукт — специальная одежда. В этом сегменте основной фактор успеха — цена. Конкурировать только на этом факторе и в этом сегменте очень рискованно: сложно убедить покупателя, что он должен переплачивать за товар только из-за местной локализации. Все это сказывается на простое мощностей и состоянии оборудования.
Четвертый фактор успеха по Портеру — это наличие родственных и поддерживающих отраслей. Они у страны практически отсутствуют. В Казахстане не производят в достаточном количестве оборудование, химикаты, фурнитуру, химические волокна и другие компоненты для легпрома. Но и ожидать притока инвестиций в родственные отрасли без развития якорного сектора не стоит. Торговля — вероятно сегодня главная поддерживающая отрасль — не склонна продвигать продукцию казахстанского легпрома просто потому, что она местная. Представители местной швейной индустрии не могут обеспечить необходимую маркетинговую поддержку (создание бренда, позиционирование, реклама), стабилизировать поставки и конкурентоспособное соотношение цена–качество.
«Есть отдельные позитивные примеры — Glasman, “Мимиорики”. Но это скорее исключение, чем правило», — рассуждает эксперт. Приведенный анализ обосновывает тезис о непривлекательности легкой промышленности для инвестирования. И это подтверждает исторический ряд данных. За 10 лет самая высокая доля легпрома в обработке по инвестициям составила лишь 4%. И это было в 2004 году, когда в целом отсутствовала инвестактивность в обработку. По абсолютным показателям наибольшие инвестиции пришли в 2009–2010-х, то есть только в начале индустриализации. Позже интерес бизнеса к отрасли пропал.
следующие статьи